
Прозреваю в себе еврея…
Перечень талантливых поэтов, рожденных еврейскими мамами, непропорционально высок, впрочем, как и Героев Советского Союза.

Прозреваю в себе еврея…
ИЗРАНЕННЫЙ ПОЭТ И ПОЛИТРУК,
или
НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ
Перечень талантливых поэтов, рожденных еврейскими мамами, непропорционально высок, впрочем, как и Героев Советского Союза.
Двадцатый век, кровавый и жестокий, помимо прочих трагизмов, разделил, словно казацкой острой шашкой, и нас, евреев, не только на большевиков и бундовцев, но и на Зеэва Жаботинского и Иосифа Трумпельдора – с одной стороны, и на Льва Троцкого, Якова Свердлова и Розу Землячку – с другой, да и многие семьи разорвал, разбросал безжалостно по планете.
8 мая 1919 года в молодой харьковской семье Слуцких – Абрама Наумовича и Александры Абрамовны – родился первенец Борис. В этом же году Хаим Наумович Слуцкий, старший брат Абрама, дядя поэта, уже репатриировался в Палестину, об этом – прямом и кровном – родстве в семье вслух не вспоминали.
А у Хаима родился сын Меир (впоследствии – генерал разведки Меир Амит), пошли его дети и внуки… Сегодня, после алии семидесятых–девяностых, точно подсчитано: на Земле Обетованной однокровников поэта Бориса Слуцкого – 120 человек. Двоюродных братьев и сестер, и племянников внучатых. Всю почтенную родню Слуцких – и сабр, и олим – ухитряется не растерять двоюродная сестра поэта, ныне живущая в Хайфе, энергичная и очаровательная Юлия Яковлевна Лейкина, моя харьковская сослуживица. В 1961 году именно она познакомила меня с Борисом.
ОТЕЧЕСТВО И ОТЧЕСТВО
Когда раздутое почти до погромов «дело врачей» растревожило болото писательского антисемитизма (о его скандальных подробностях я намерен поведать ниже), Борис Слуцкий, не мешкая, мгновенно, словно боксер, ответил точным ударом – мы, тогда молодые и дерзкие, читали его стихотворение взахлеб.
– По отчеству – учил Смирнов Василий, –
Их распознать возможно без усилий!
– Фамилии – сплошные псевдонимы,
а имена – ни охнуть, ни вздохнуть,
и только в отчествах одних хранимы
их подоплека, подлинность и суть.
Действительно: со Слуцкими князьями
делю фамилию, а Годунов –
мой тезка, и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.
Но отчество – Абрамович, Абрам –
отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он – отец, и отчества, однако,
я, как отечества, не выдам, не отдам.
Но, непритворно преданный тому Отечеству, прикрывавший его своей неширокой еврейской грудью, искалеченный в боях и высеченный критикой и партсобраниями, едва ли в самых страшных (а возможно, и радужных) снах Борис Абрамович Слуцкий мог представить, что его юбилей будут отмечать в Отечестве предков. Да и я, не обделенный знакомством с ним, многолетним и неровным, разве помышлял когда-то, что белые плотные листки бумаги, вбирающие мои размышления о поэте, будут освещены яркими лучами солнца, движущегося по дуге, от горизонта до горизонта, в нашем высоком и бездонно синем израильском небе.
ПОВИНУЯСЬ МУЗЫКЕ ДУШИ
Литературная судьба поэтов, независимо от таланта, складывается по-разному: одни – юные, зеленые, дерзкие, не дав молоку на губах обсохнуть, уже выпускают в свет первые сборники, другие – тяжело, мучительно, до седых волос пробиваются к своим главным книгам, третьи – так и уходят в мир иной, не напечатав, не издав своей одной-единственной строки, оставляя ворох черновиков, исписанных, исчерканных, которые едва ли обретут манящий и сладкий запах типографской краски. А что же Борис Слуцкий? Вырвавшись в сороковом году из родительских объятий украинского Харькова, живого, трудового, железобетонного, он в самый канун войны вместе с другими молодыми – Михаилом Лукониным и Павлом Коганом, Николаем Майоровым и Михаилом Кульчицким, Семеном Гудзенко и Давидом Самойловым – уже бушует на московских литературных вечерах, о нем упоминает «Литературная газета», но, вернувшись с войны, израненный и контуженный, неприкаянный и голодный, бездомный и безработный, захлебываясь от нахлынувших фронтовых стихов-воспоминаний, не скажу – долготерпеливо, порой отчаявшись, без малого 15 лет ждет первой публикации, первой книги.
Но та же «Литературная газета», по нескончаемым лабиринтам коридоров которой, сжав зубы и обламывая самолюбие, бродил, словно незамеченный, Борис Слуцкий, в одночасье сменив гнев на милость, публикует подборку его стихов – не по доброй воле, не пелена с глаз упала – поэта представил читателю Илья Эренбург. В том же номере газеты, тогда, в середине пятидесятых годов еще четырехполосной, в статье внушительных размеров и доброжелательной, продуманно запальчивой и полемической – Илья Григорьевич сравнивал стихи Бориса Слуцкого с некрасовскими, предвосхищая его заметное и незаменимое, заслуженное и неоспоримое место в советской русской поэзии.
Сегодня, обращая взгляд в прошлое, незабываемое и удаленное, можно по-разному относиться к этому, по выражению того же Бориса Слуцкого, «еврейскому печальнику, справедливцу и нетерпеливцу». В частности к его – с учетом того времени – резко отрицательному отношению к созданию еврейского государства на Земле Обетованной, к его утверждению: «решение еврейского вопроса – никакого еврейского вопроса». Но нельзя отказать Илье Эренбургу в прозорливом мировоззрении, в том числе в умении удачливо выхватить из безвестия многие еврейские имена, талантливые и яркие.
Прошло почти полвека после публикации его статьи о Борисе Слуцком, но я помню – нет, не полемику – крик истошный, порой переходящий в злобный вой: так на полосах той же «Литературной газеты» откликнулись именитые критики на непочтительные параллели между каким-то Борисом Абрамовичем и великим Николаем Алексеевичем, поэтом-гражданином, певцом мужицкой Руси. Но дело было сделано – Слуцкого начали печатать, теперь уже – всерьез и надолго.
Они на всю жизнь остались друзьями, слышал об этом от самого Бориса, и когда в 1967 году умер Илья Эренбург, Слуцкий, тяжело воспринимая уход старшего товарища, был в числе организаторов расшумевшихся на всю Москву похорон.
Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
суечусь, мечусь
и его, уже посмертным светом,
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.
Нет, это не самоуничижение, к тому времени поэт уже светился своим светом…
Мы еще вернемся к роли еврейских имен в советской русской поэзии, но даже если судить только по фронтовому поколению, подчеркиваю и с удивлением, и с гордостью – перечень талантливых поэтов, рожденных еврейскими мамами, непропорционально высок, впрочем, как и Героев Советского Союза. Судите сами: Семен Гудзенко и Борис Слуцкий, Александр Межиров и Давид Самойлов, Константин Ваншенкин и Юрий Левитанский, Григорий Поженян и Виктор Урин – это, пользуясь армейским термином, только правофланговые, а сколько других, не дошедших до Победы, а если и выживших, то оставшихся безвестными.
До сих пор не могу найти удовлетворяющего меня ответа на вопрос, заданный давным-давно самому себе: как же случилось, что «Мастера пера, не подмастерья, / властелины дум, а не вожди, – / мальчики из маленьких местечек, / из еврейских праведных местечек / в русскую поэзию вошли?»
Попытаюсь – на примере Бориса Слуцкого – осилить эту задачу.
…Рос еврейский мальчишка на харьковской близкой окраине, где трава зеленей, небеса голубей, в тени заводов, вставал затемно, как и весь район, по гудку, мальчишку до отрочества звали Бобом, он ненавидел это свое имя – имечко, мама Шура, как и все еврейские мамы, мечтала увидеть своего сына только пианистом, определила в музыкальную школу имени Бетховена (несколько лет назад, перед самым отъездом в Израиль, я проходил мимо и из высоких распахнутых окон школы упрямо и настойчиво звучали недоигранные поэтом гаммы). Боба несколько раз исключали за профнепригодность, но вмешивалась мама, хватала сына за шиворот, вновь отправляла учиться – на муки, а его угораздило – в поэты.
Так я мужал в музшколе той вечерней,
Одолевал упорства рубежи,
Сопротивляясь музыке учебной
И повинуясь музыке души.
Услышать музыку души своей – затаенную, не громкую, не бравурную, не утратить ее с годами, сердцем, словно радаром, уловить ее чистое и загадочное звучание, различить безошибочно пульс стиха, его надиктованный свыше ритм, не захлебнуться в потоке слов родного языка, отобрать единственные – так рождаются поэты, но это лишь одна составляющая, вторая – его судьба, доля, удел в круговороте времени: суметь устоять на ногах в доставшихся тебе координатах, без скулежа, без печалований нести свой жребий. Так мне представляются две составляющие, пользуясь математической терминологией, вектора Поэта, если он, Поэт, состоялся.
А Борис Слуцкий состоялся.
Как я ни доискивался, ни допытывался – отроческие, юношеские стихи поэта не сохранились, но воспоминания о харьковском предвоенном друге, хорошем поэте Михаиле Кульчицком, убитом па самом взлете судьбы, – в штыковом бою под Сталинградом, Борис пронес через всю свою жизнь, помог родным издать единственную книгу стихов, посвятил его памяти много своих стихов, в том числе «Декабрь 41-го года».
Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули –
Кратчайшим расстоянием была.
<…>
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.
И когда в конце 60-х, в нескончаемом горьком списке имен погибших, высеченных на мрачном мраморе мемориального комплекса в Волгограде, я не обнаружил свою фамилию, точнее – своего дяди Бориса Баткина, сержанта-пулеметчика (не похоронку, а последний фронтовой треугольник от него мы получили с волжских берегов), но натолкнулся случайно на имя «М. Кульчицкий» и помянул тогда и своего талантливого земляка, поэта, погибшего, как и миллионы других, повторюсь, на самом взлете судьбы.
И В ПАМЯТИ, И В СЕРДЦЕ НЕ ОСТАЛОСЬ,
КРОМЕ ВОЙНЫ, НИ ЗВУКА, НИ СТРОКИ…
В русской советской поэзии Борис Слуцкий останется поэтом фронтового поколения, но если Михаил Луконин и Семен Гудзенко свои обугленные строки, пропахшие порохом и кровью, писали в окопах, а стихотворение Константина Симонова «Жди меня», напечатанное в газете «Правда» в феврале 1942 года, сделало наутро имя его автора всемирно известным, что можно сравнить лишь со стихами «На смерть поэта» Михаила Лермонтова и «Бабьим Яром» Евгения Евтушенко, то фронтовая поэзия Бориса Слуцкого, пропитанные кровью и потом, но обращенные к прошлому строки, – боль неутихающая, честная исповедь участника войны уже из мирного времени.
В марте 1961 года, едва ли не при первой встрече, я спросил Бориса:
– Вы на фронте стихи писали? – И столкнулся с жестким взглядом поэта, недоуменным, раздраженным, словно затронул что-то недозволенное.
– А вы, Вильям, на шахте писали? – ответил вопросом на вопрос мой задумчивый, скупой на откровения собеседник, словно можно было сравнить мою в луганских угольных глубинах молодость с его – фронтовой.
Подхваченный страшным смерчем внезапной войны и волнами искреннего тогда патриотизма, Борис Слуцкий, не дождавшись повестки из военкомата, записывается в добровольцы и уже в июле сорок первого из покрытой «толстокожим брезентом» палатки под Серпуховым начинает свой путь – еврейского интеллигентного рыжего мальчика, молодого, 22-летнего – по фронтам Великой Отечественной войны.
Девятнадцатый год рожденья –
Двадцать два в сорок первом году –
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.
Как он выжил – не плечистый, не мускулистый, но на поверку – не хлипкий, с выразительным библейским ликом – четыре года в пехоте, вначале отступая от Польши до Волги дорогой огня, затем, наступая от Волги до Польши – только Всевышнему известно. Он его и сберег, сегодня я так понимаю, затем, чтоб в новой должности – поэта – дать рассказать «современникам и потомкам»…
Вспоминаю и неуклонный расцвет стиха русского на войне Отечественной, и живой, всенародный, непритворный интерес к нему. Мальчишкой я часами выстаивал длинные и черные, колышущиеся и галдящие очереди – и за отрубным хлебом, зажав в кулаке скомканные продуктовые карточки, отнять их у меня могли только вместе с рукой, и за газетами свежими, непременно со стихами, – это в голодном сибирском тылу, а на фронте, в хляби окопной, рассказывают ветераны, газетные полосы со стихами Симонова, со статьями Эренбурга солдаты на махорочные самокрутки не изводили…
А в послевоенные годы по указкам Сталина и Жданова с корнем вырывали у того же народа мысль, что ему, поколению победителей, а не Верховному Главнокомандующему, принадлежит право на Победу в Великой Отечественной: истинная правда о войне скупо дозировалась и процеживалась, вот отчего честные и суровые строки, в том числе и поэзия Бориса Слуцкого, его фронтовые баллады воспринимались и как надежда, и как откровение. И лишь спустя десятилетия загремело с телевизионной эстрады «Фронтовики, наденьте ордена» и «Этот праздник с сединою на висках», когда фронтовиков, словно защитников Брестской крепости, осталась горстка.
Лишь простое перечисление наименований военных стихов поэта, даже отдельных строчек, оставляет впечатление и точности, и сопричастности автора к увиденному и осмысленному: «Первый день войны», «Одиннадцатого июля», «На спину бросаюсь при бомбежке…», «И пока не стану горстью праха…», «Последнею усталостью устав, предсмертным равнодушием охвачен…», «Сбрасывая силу страха», «Роман Толстого в эти времена перечитала вся страна…», «Еще скребут по сердцу “мессера”…», «Ведро мертвецкой водки» и т.д., а два стихотворения – «Кельнская яма» («Не было семьдесят тысяч пленных…») и «Лошади в океане» («А все-таки мне жаль их – рыжих, не увидевших земли…») – вошли во все антологии фронтовой поэзии.
Не могу обойти молчанием, ибо было бы уже моей неправдой, одну, едва ли не стержневую тему в поэзии Бориса Слуцкого – речь веду о комиссарах, политруках, замполитах – скупыми, но точными мазками изображенных поэтом, отслужившим в самые тяжкие годы войны на этой проклятой и прóклятой по ответственности и опасности должности. Тогда – в сорок первом–сорок втором, чтобы остановить многоязыкую крестьянско-рабочую массу, бегущую от гусениц фашистских танков, на отступающую передовую были брошены комиссары, а среди них евреев – не счесть, вопреки антисемитским настроениям и слухам – храбрых и умных, грамотных и интеллигентных, но не празднословных.
И останавливали – первыми отрываясь от земли, первыми подставляя себя под немецкие пули, под разрывы снарядов, а передовую и прифронтовые зоны не только бомбили, но и, словно листопадом, осыпали листовками типа «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!» (вспомним стихотворение «Плохая рифма» Льва Вайншенкера, тоже иудея-политрука).
И в плену их, комиссаров-евреев, расстреливали первыми, и не оттого, что немцы были дотошными физиономистами, – выдавали свои, лишь накануне, перед боем, безропотно подчинявшиеся политруковскому слову.
Уже в предсмертной книге Бориса Слуцкого «Сроки» (1984), вобравшей стихи, написанные в разные годы, но не входившие в прежние сборники, я обнаружил строки:
…Охотники, рыбаки, бродяги,
Творческие командировщики с подвешенным языком,
А вы тянули ваши бодяги
Не перед залом – перед полком?
А вы играли в сорокаградусный
Мороз в пехоту, вжатую в лед,
И крик комиссара, нервный и радостный:
– За Родину!.. Вперед!
Многие строки из политруковской поэзии Бориса Слуцкого запомнились из его первых книг: «Не умел воевать, а умел я вставать, отрывать гимнастерку от глины…», «Я говорил от имени России, ее уполномочен правотой…», «Политработа – трудная работа…»
Опечаленно размышляю о будущих страницах романа «Война и мир» – его, уверен, напишет Лев Толстой третьего тысячелетия, – и не оттого, что мне его не прочесть, тут ничего не поделаешь, а оттого, что среди позитивных героев этого гипотетического повествования едва ли будут политруки, наши с вами однокровники, – отважные, несгибаемые…
В середине семидесятых, когда, по горестному признанию Бориса Слуцкого, «ухудшились мои дела и прямо вниз дорожка повела», после смерти жены Тани, в период беспросветной душевной депрессии, поэту повезло – к нему неожиданно пришел человек, прежде неведомый, – Юрий Леонардович Болдырев – саратовский филолог, вдумчивый, добрейший и интеллигентнейший, большой знаток русской словесности, в том числе и творчества Бориса Слуцкого. Они подружились в ту пору, когда издерганный болями – и физическими, и душевными – поэт не желал даже с самыми близкими поддерживать отношения. Это было странно, но свершилось, и до последних дней Бориса Абрамовича и в течение нескольких лет после его смерти Юрий Леонардович не просто вернул из небытия доброе имя больного и приумолкшего поэта. Тщательно и заботливо, не проронив ни слова, он разобрал и перечел все доверчиво переданные ему рабочие тетради поэта, весь его архив, обнаружил огромное количество неопубликованного и подготовил, и издал не только новые книги поэта, но отдельные подборки новых (!) стихов в журнальной периодике.
Это был не просто заслуженный подарок судьбы для поэта, для многих друзей, приятелей, знакомых (в том числе и для меня), знавших о критическом состоянии Бориса, это была отрада нового соприкосновения с духовным миром писателя, который долгие годы – пятидесятые–семидесятые – 6ыл для нас и камертоном, и извечными неоконченными спорами, и рукой, скажу так, души наши поддерживающей.
Помянем добрым словом Юрия Леонардовича – к сожалению, в середине девяностых он, еще не старый человек, внезапно умер, но успел завершить свою главную задачу – собрать, упорядочить, издать и прокомментировать всего Бориса Слуцкого.
Именно Юрию Леонардовичу принадлежит мысль, что Борис Слуцкий сделал нечто, в русской поэзии до того небывалое: лирическим и балладным стихом он написал хронику жизни советского человека, правдивую и трагическую, более чем за полвека – с 20-х до 80-х годов двадцатого столетия.
И главная особенность поэтической летописи Бориса Слуцкого – она густо насыщена не только событиями историческими, масштабными: Отечественная война, послевоенное время и неширокая полоса оттепели, надежд после XX съезда, надвигающийся, словно черная туча, период брежневского застоя, – но и подробностями быта нашей жизни, той духовной и материальной атмосферой, в которой жили и наши отцы, и деды, и мы – уже здесь, в Израиле, перебирая в памяти, ностальгически и незлобиво, реалии и частности.
Неосуществимо – и физически, и технически – перечислить все стихи, написанные Борисом Слуцким о том времени. Строки из одного, точно выразившего наши эйфорические, как оказалось, наивные надежды, приведу:
Десятилетия Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.
<…>
я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.
Все же ты был.
Борису Слуцкому не довелось, но мы вновь пережили схожую эйфорию – в период начала горбачевской перестройки, и снова – тщетно, впустую, впрочем, я не прав, для нас, евреев, это обернулось Исходом.
Прозреваю в себе еврея
Как правило, Борис Абрамович в разговоре со мной был лаконичен, раздражен извечно, но однажды вдруг разоткровенничался – то ли отпустила головная боль, тупая, всегдашняя (после контузии), то ли с утра удались хорошие строки:
– На фронте – по-другому: солдаты, русские крестьянские мальчики, которых я поднимал в атаку, знали, что их политрук – еврей, но что бы ни нашептывали антисемиты, они видели – я первым отрывал от промерзшей русской земли и подставлял под пули свое легкое еврейское тело, я впервые познакомил их с отечественной поэзией, не пил со старшинами «мертвецкую водку» – оставшуюся порцию погибших; там, на передовой, я был спокоен за свое человеческое и еврейское достоинство.
Борис встал со стула, сел, вновь поднялся, пятерней пригладил свои густые темные вихры (а в юности были рыжими), продолжил:
– Когда вернулся с войны – раненый, но живой, услышал этот истошный, извечный и злобный крик мещанства русского: «Евреи! Евреи!» Самое неизгладимое впечатление, страшнее, чем перепуг в окружении, – январь пятьдесят третьего. На фронте не болел, а тут – кашель, нутро выворачивает, мозги, и без того контуженные, сотрясает… Но вскакивал на рассвете, как на смену, – бегом к газетным киоскам, скупал – вчитывался, что же напророчат еще нации нашей…
И Борис Абрамович, словно в рукопашной, понятно, стихами – взбешенными, яростными, злыми – отбивался от антисемитского дьявольского воя: «Отечество и отчество» я уже упоминал, «Ваша нация», «Январь пятьдесят третьего», «Национальная особенность», «Еврейским хилым детям…», «А нам, евреям, повезло…», «Люблю антисемитов задарма…», «Про евреев», «Примазываются к России…» и много других – стихов, строчек – явных, нескрываемых или сокрытых, потаенных.
Не хочу – не имею на то права – никого упрекать, но еврейских звездных имен в русской советской поэзии щедро и достаточно: и Самуил Яковлевич, начинавший писать на иврите, и Михаил Аркадьевич, всегда подшофе, источающий остроумие – и в быту, и в стихах («И меня уже почетом, как селедку луком, окружают…»), и Илья Львович, и Лев Адольфович – поэты и педагоги отменные – все в стихах своих и ярких, и исповедальных, словно воды в рот набрали, молчали, и лишь Борис Абрамович не раз порывался в строках разгневанных выявить свою принадлежность к народу, инородному на земле русской, да и среди писательской братии распознавал юдофобов, хотя порой и ошибался.
Расскажу о таком эпизоде. В начале шестидесятых пришли мы с ним в редакцию журнала «Знамя» – на Тверском бульваре, от Литературного института поблизости. У входа – направо, застекленной перегородкой отгороженный – отдел поэзии. Разглядев Слуцкого, порывисто торопится навстречу молоденький заведующий отделом, блондин крутоплечий, в свитере крупной вязки – под горло, улыбчивый, умильный.
– Знакомьтесь, Вильям, – говорит Борис Слуцкий. – Это – Стас Куняев, хороший русский поэт, мой ученик…
Я еще несколько раз встречался с Куняевым, все разговоры его начинались и заканчивались: «Ах, Борис Абрамович – такой прекрасный поэт, мой учитель… Старик, передавай привет Борису Абрамовичу…»
А во второй половине восьмидесятых, только-только перестройка расшевелилась, в журнале «Наш современник» – огромная, погромная, программная статья Станислава Куняева – о засилье еврейских имен в русской советской поэзии, не намеки, не камушки в наш огород, а прямым, нахрапистым и непотребным текстом, с реестром фамилий – достойных, незабвенных, в том числе и Слуцкого.
Возвращение к своим корням, к своим истокам для каждого человека, рожденного еврейской мамой, – путь сложный, но обязательный, и Борис Слуцкий поведал о нем в стихах – внешне простых, но чеканных, глубоко философских:
Созреваю или старею –
Прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился,
Я-то думал, что я прорвался.
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а сорвался.
Я, шагнувший ногой одною
То ли в подданство,
То ли в гражданство,
Возвращаюсь в безродье родное,
Возвращаюсь из точки в пространство.
Мы не от старости умрем…
«Мы не от старости умрем, от старых ран умрем…», – горько и пророчески выкрикнул, словно выдохнул, в конце войны Семен Гудзенко, приговорив и себя, и своих поэтических однополчан, израненных и искалеченных, к преждевременной ранней смерти, как будто есть полный срок пребывания Человека на Земле, достаточный и благополучный. Это только лишь наши праотцы, благословенна их память, за свои несравнимые заслуги умирали в доброй седине, престарелые и насыщенные жизнью.
А Борис Слуцкий умер и от старых ран, и от старости надвигающейся, когда судьба в последние годы жизни потрясла такими жестокими подробностями, что поэт, не единожды глядевший на фронте в глаза смерти, вдруг дрогнул – и первыми состояние поэта выдали глаза. Мне рассказывал Константин Симонов, навещавший Слуцкого в больнице, – одной из лучших московских, куда он, всегда всесильный, и определил заболевшего Бориса: «Врачи ничего страшного, безысходного не находят, кроме старых ран и контузий, но их беспокоит депрессия, а меня более всего испугали глаза – столько в них боли, тоски, обреченности, непротивления…» Позже, в 1979-м, уже о симоновской предсмертной тоске в глазах напишет в некрологе Эдуардас Межелайтис.
Вспомнив Межелайтиса, не могу не упомянуть еще об одной стороне поэтического наследия Бориса Слуцкого – о многолетнем опыте работы Слуцкого-переводчика. Его переводы, разбросанные по многочисленным изданиям, с украинского и польского, чешского и литовского, до сих пор не собраны в одной книге, но именно Борису Слуцкому принадлежит право первооткрывателя значительного советского литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса, близкого Слуцкому и по мироощущению, и по поэтическим интонациям, и по крови еврейской.
Борис Слуцкий умирал долго, мучительно, жутко – от пометки под черновиком последнего стиха – 22.4.77 до намогильной даты – 23.2.86, вначале в московских больницах, затем в тульской квартире родного брата Ефима Абрамовича – полковника-артиллериста. Причины трагической развязки обговаривали – достаточно деликатно – и друзья поэта, и литературная критика, не буду пересуживать – покойный не одобрил бы, и хотя не люблю ссылаться на чужие мысли, приведу слова Льва Аннинского, знатока поэзии и аналитика глубокого, прозорливого, чуткого:
«…Борис Слуцкий смотрит в бездну с отчаянной решимостью… В яростном самосмирении Слуцкого перед законом, которому подчинено бытие, есть что-то от ветхозаветных пророков… Мысль о делах, что будут продолжены, о памяти, что останется, помогает скрутить себя Слуцкому-рационалисту, но личность поэта не может примириться с ощущением конца и финала – личность бьется на краю, сгорая от трезвой ясности, от горькой ясности сознания…»
…Ну что же, я в положенные сроки
Расчелся с жизнью за ее уроки…
А уроки были трагические… Пытаюсь не оправдать, понять Бориса Абрамовича – его выступление на писательском Пленуме, осудившем роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Разглядев глубокие противоречия в деяниях власть предержащих, Слуцкий всю жизнь надеялся – наивно, но искренне, как многие из нас, – на будущие светлые страницы в советской истории и не мог принять лютую антисоветскую ненависть романа, не равного таланту большого русского поэта Бориса Пастернака, но в литературных кругах знали о его нелицеприятных отзывах о братьях по крови.
…Испытывая невысказанную вину перед погибшими в Катастрофе, Слуцкий при любой возможности посещал Освенцим, где однажды, обнаружив березку, – светлую, не кряжистую, написал:
…Березка у освенцимской стены!
Ты столько раз в мои врастала сны.
Случись, когда придется, надо мною…
Увы, пока не дано мне знать, есть ли сегодня березка на московском погосте – последнем пристанище Поэта.
ДАНЬ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Когда уже завершал эти свои размышления, фантастическая мысль вдруг вынырнула, оглушила меня именно своей предполагаемой реальностью: доживи Борис Абрамович до нынешних времен – ведь в майские дни 2007 года ему было бы всего восемьдесят восемь! – и решись он на репатриацию, в бен-гурионовском гудящем аэропорту его встретила бы и бесчисленная родня, и состарившиеся почитатели, и ваш покорный слуга. Всей своей жизнью и честной, своевольной поэзией Поэт заслужил право вернуться – из точки в пространство – в Отечество предков, чтобы продолжить неоконченные споры…
Скоро мне или не скоро
В мир отправиться иной –
Неоконченные споры
Не окончатся со мной.
Но, к сожалению, у человеческого удела нет сослагательного наклонения, и наши молвленные на Земле Обетованной добрые слова о Борисе Абрамовиче Слуцком – лишь малая дань его светлой памяти…
Автора этой статьи поэта, прозаика, публициста и хорошего еврея Вильяма Баткина теперь. к сожалению нет с нами. Пусть эта публикация будет данью его светлой памяти…





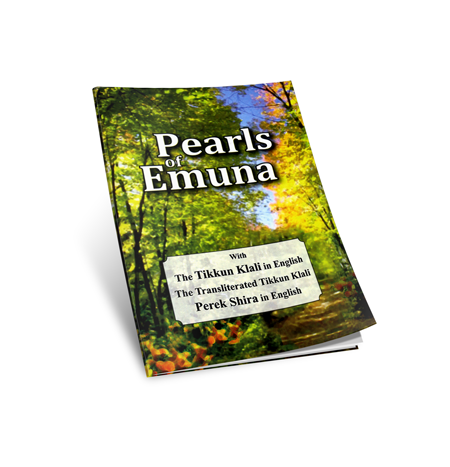


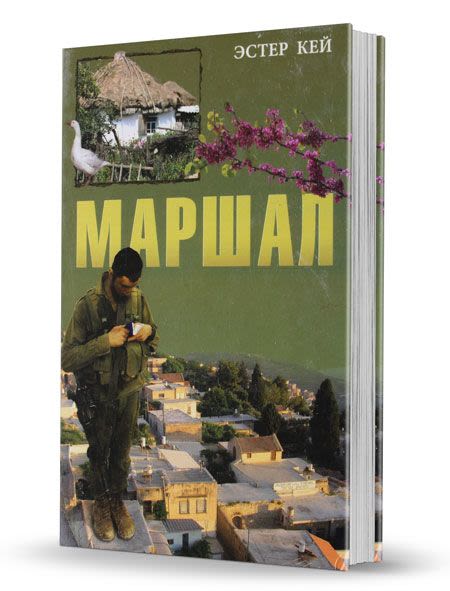
напишите нам, что вы думаете о видео
Благодарю за ваш ответ!
комментарий будет опубликован после утверждения